|
|
Про переломленное время, кожное зрение и людей прошлого
Дмитрий
Константинович Равинский – старший научный сотрудник
Российской национальной библиотеки, кандидат педагогических наук.
Евгений Белодубровский. Сага о пальто: Эссе – Свиньин и сыновья, 2012. – 156 с.
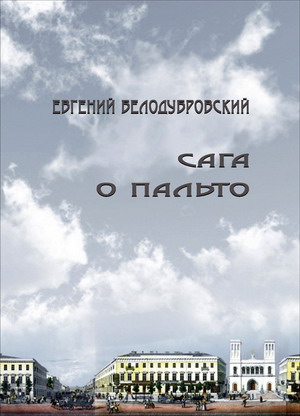 Секрет этой удивительной книги – в ее жанре. Сам автор определил этот
жанр как «пальчуганская автобиография». Белодубровский рассказывает о 13
пальто, которые он носил в разные периоды своей жизни, и заодно о своей
жизни, о жизни многих других, о Ленинграде, о блокаде, о Публичной
библиотеке,
Секрет этой удивительной книги – в ее жанре. Сам автор определил этот
жанр как «пальчуганская автобиография». Белодубровский рассказывает о 13
пальто, которые он носил в разные периоды своей жизни, и заодно о своей
жизни, о жизни многих других, о Ленинграде, о блокаде, о Публичной
библиотеке,
о забытых поэтах и многом-многом другом. Есть хороший, всегда
работающий литературный прием – связать несколько новелл запоминающимся
предметным атрибутом. Сразу вспоминаются «Тринадцать трубок» Эренбурга,
«Чемодан» Довлатова и т.д. Но особенность этой книги как раз в том, что
пальто здесь не просто атрибут, пальто последовательно проживаются, знаменуя
разные этапы жизни автора. «Сага о пальто» – рассказ о жизни человека,
родившегося в Ленинграде в апреле 1941 года и соответственно испытавшего
блокаду, надсадные послевоенные годы, юность 50-х и т.д. Невозможно
пересказать – нужно цитировать этот извилистый, пульсирующий рассказ.
Белодубровский обладает особого рода памятью – памятью на детали. Вот
как он пишет об открытии персональной выставки Натана Альтмана 14 апреля
1969 года: «Это было гениально… Не помню ни ленточек, ни всяких там слов, ни
даже большинства картин. Помню только его самого: в бежевом полосатом
костюме, широких брюках, с огромной, во всю ширь, разлапой красной бабочкой
в золотисто-желтую крапинку, голубую, с белым воротом рубашку, шикарные
запонки, и в руках – тонкая трость (может быть, это был стек?)… Хорошо помню
и прическу Натана Альтмана: пробор, шустрая, седая с прожилками густая
шевелюра, со спадающими по обе стороны открытого лба махровыми, отливающими
(да простится мне этот пафос!) серебром локонами».
И это важно: не рассказ «как я встречался с известными людьми», не
рассуждения об исторических событиях, но другое: схваченный, запомненный
кожей zeitgeist. Не удержусь вновь от цитирования. «А вот живых иностранцев
я увидел чуть раньше. Первый раз – это целый в четыре-пять ровных рядов
оркестр английских моряков, играющих свой гимн прямо на газоне «Сашкиного
сада» по правую руку Петра Великого. У них были миниатюрные трубы и валторны
с флажками, на голове – береты с помпонами, на ногах – белые с кисточками
гамаши, зеленые рейтузы и крепкие башмаки. И на шее – серебряные свистки,
чем-то похожие на наши заварные чайники… Офицер-дирижер отбивал такт
огромной булавой. На нем была роскошная фуражка с кокардой и мундир,
перетянутый широкой красной лентой с кучей орденов и всякого металла. То был
1956 год…» Жизнь города за несколько десятилетий воспринята и запечатлена
особым, «кожным» зрением. Автору присуще качество, возможно, самое главное
для мемуариста: ощущение таинственности мира. Каждый день жизни полон
открытий. Это и забытое нынче удовольствие перебирать карточки огромного
библиотечного каталога, предвкушая знакомство со всеми забытыми, но
достойными знакомства писателями. Это и детская игра в прятки – но уж так
наиграться, чтобы заснуть в укромном месте и чтобы тебя искали всей
квартирой. А подростковое писательство, когда пишешь вирши на уроке,
прикрывая рукавом от соседа, а потом дома старательно переписываешь набело и
декламируешь перед зеркалом, представляя толпу у радиоприемников... Как
интересно, как вкусно жить!
Запоминаются, пробуются на вкус слова: «солдатское слово земеля»,
«мальчиковое – слово послевоенное, ленинградское», забытые ныне слова
«чудачка», «жироприказ», «квартальный», «жиличка» и т.д.
«Сага о пальто» населена множеством людей. Немало и знаменитых, как
«строгий, стройный петербуржец» Михаил Лозинский или тот же Натан Альтман,
но большинство люди незнаменитые: светловолосая финская молочница Рая,
книжник Коля Рукавицын, управдом Виктор Карлович Вайхт и оставшийся
безымянным продавец в отделе старой книги Дома книги, «не просто продавец
книг, а ленинградский интеллигент, что называется, «высшей пробы», который с
совершенным (и я бы сказал, благодарным) неравнодушием откликался на каждую
просьбу о книге или на каждый вопрос об авторе».
Важная особенность «Саги», крайне редкая для мемуаров, – почти все
упомянутые в ней вспоминаются с уважением, очень часто переходящим в
восхищение. Разумеется, это свойство характера мемуариста.
Восхищение перед
жизнью, упоение ее затейливым многообразием излучаются с каждой из 154
страниц. Но, пожалуй, есть здесь и нечто другое. Книга Белодубровского –
дань памяти уходящему миру, миру Ленинграда 50-х – 70-х, миру «Сайгона» и
Публички, танцев в «Бонче» и Книжной лавки писателей, кафе «Экспресс» и
Библиотеки имени Блока. Обжитой, уютный город, населенный ленинградцами –
разными, но в чем-то главном удивительно схожими между собой. Конечно же,
«Сага о пальто» – это и дань памяти этой замечательной породе (в старом,
хорошем смысле) людей. То, что произошло в последние два десятилетия, можно
сравнить с описанным Тыняновым переходом после Декабрьского восстания, когда
«время вдруг переломилось». «На очень холодной площади в декабре месяце
тысяча восемьсот двадцать пятого года перестали существовать люди двадцатых
годов с их прыгающей походкой». И дальше: «Они узнавали друг друга потом в
толпе тридцатых годов, люди двадцатых, – у них был такой «масонский знак»,
взгляд такой и особенно усмешка, которой другие уже не понимали. Усмешка
была почти детская. Кругом они слышали другие слова, они всеми силами бились
над таким словом, как «камер-юнкер» или «аренда», и тоже их не понимали».
Именно поэтому хотелось бы выделить особо одного из тех, кто упомянут в
книге. Роман Исаакович Цветов – честнейший и порядочнейший, сохранивший себя
в советские годы, оболганный и раздавленный в наступившие новые времена.
Пусть «Сага о пальто» будет памятником и ему.
« назад на главную страницу
|