
Бирюков Александр
ТЫ СТОИШЬ У ОКНА
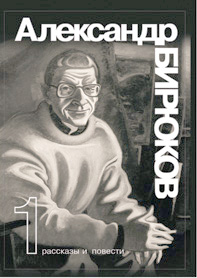 В долгие весенние дни я лежал дома с закованной в гипс ногой и скучал.
Соседка Полина Романовна, злая старуха лет шестидесяти, молча ставила на
стол завтрак, обед и ужин. Она была не очень расположена ко мне, и до
болезни мы с ней еле здоровались. Теперь я был рад, что она приносит мне
еду, и не осмеливался претендовать на такую роскошь, как разговор.
В долгие весенние дни я лежал дома с закованной в гипс ногой и скучал.
Соседка Полина Романовна, злая старуха лет шестидесяти, молча ставила на
стол завтрак, обед и ужин. Она была не очень расположена ко мне, и до
болезни мы с ней еле здоровались. Теперь я был рад, что она приносит мне
еду, и не осмеливался претендовать на такую роскошь, как разговор.
Ребята приходили редко. В первое время, когда я только сломал ногу и врачи,
проклиная всех лыжников-неудачников, вбили мне в пятку гвоздь, приспособили
к нему груз и объявили меня тяжелым, в то время ребята ходили в больницу
часто. Они таскали всяческую контрабанду, в темпе выкладывали новости и без
всякого зазрения совести пялились по сторонам. Хотя каждый из них не так уж
много проработал в газете, профессиональное любопытство было сильнее всякого
приличия. Каждый с трудом удерживался, чтобы не достать записную книжку,
когда узнавал, что подставка, на которой лежит моя нога, называется
самолетом. Из пятнадцати минут посещения каждый минимум пять минут
просиживал затылком ко мне, вглядываясь в угол, где лежал туго спеленатый
бинтами Димка, про которого говорили, что он спас нефтехранилище.
После того как от меня уходил последний, из Димкиного угла полз сокровенный,
выстраданный мат. Димка ругался не по злобе. У него были сильные боли, и он
не хотел стонать при посторонних. В том же тесном кругу я видел, какие
грустные глаза у Толика – его привезли с трассы и в городе у него не было
знакомых.
А на следующий день все начиналось сначала. Чтобы обманывать санитарок,
ребята запаслись невероятными справками. Кто-то из них проходил даже по
липовому удостоверению инспектора пожарной охраны. Отчаявшись бороться с
самозванцами, врачи нашли простой выход – добавили гипс и отправили меня
домой.
С того дня я почти не видел ребят. Им было некогда: сначала майский номер,
потом День печати, День радио, День Победы... Моему одиночеству не было
конца. И я с ним смирился.
Чаще других заходил Женька. Он был самым молодым из нас и самым большим
бездельником. И ему чаще других доставалось на летучках. Он приходил по
пятницам и рассказывал, главным образом, о том, как сегодня исполнял роль
сидоровой козы, сетовал на свою судьбу и уходил.
А я снова оставался один. И вот тогда незаметно я нашел собеседника. Это был
двор. Было уже тепло, и форточка была открыта круглые сутки. И двор
ежеминутно докладывал мне о всех новостях.
Он просыпался без пятнадцати девять хлопаньем и шорохом многих шагов. В
первом этаже был большой продовольственный магазин. Поэтому с десяти во
дворе разгружались машины, урчал грузовой лифт, с грохотом вылетала через
люк тара. Я слушал анекдоты грузчиков, рассерженные голоса экспедиторов и
думал о том, что любой обэхаэсник позавидовал бы моей позиции.
В три двор стихал. Машины разгружались уже не так часто. И разгружались они
тише. А в шесть часов опять хлопали двери.
Двор не затихал до вечера, потому что сразу семь мальчишек хотели быть
Гагариным и ни один из них не соглашался на роль ракеты-носителя.
В восьмом часу в распахнутые форточки кричали мамы.
Мальчишки огрызались, но от вмешательства взрослых игра расклеивалась. Без
особого грохота ребята выводили на орбиту последнего и разбегались.
Тогда наступала тишина. Гулкая тишина каменного колодца. Она заполняла двор
до крыш и караулила каждый звук, чтобы разнести его по окнам.
В других домах в это время, наверное, гремели приемники и магнитофоны. У нас
такие штуки не проходили. Музыка чуть пищала из открытых форточек. Дом
чопорно и строго охранял свою тишину.
И вот однажды в эту тишину ворвался свист.
Не залихватский мальчишеский. Не узорчатый милицейский. На дне колодца
кто-то не спеша выводил мелодию известной песни:
Ты стоишь у окна,
Небосвод уныл и тесен,
Ты стоишь и грустишь...
Хлопнула входная дверь, и свист оборвался. Заскрипел под ногами снег. Двор
доложил, что уходят двое: он – широкими, редкими шагами, и она – частыми.
Так повторилось и на следующий день. Потом еще и еще раз. Так повторялось
каждый день, и тогда двор заинтересовался этим событием.
– Явился! – возвещало окно на втором этаже, когда раздавался свист.
– Свистунов на мороз! – глупо острило окно с балконом.
– А у матери уши ватой заткнуты! – возмущалось третье.
Соседка Полина Романовна тоже, конечно, не удержалась. Однажды свист ее
застал в моей комнате, перед ужином. Она выглянула в окно и поджала губу.
– Прости меня, господи, как сучку какую выманивает.
Возвращались они поздно. В одиннадцать часов закрывался магазин. Несколько
минут двор вслушивался в тусклый от усталости смех продавщиц. Выходил
инкассатор и небрежно швырял на заднее сиденье мешок с выручкой. Мешок чуть
слышно звякал. В ночной тишине «победа» грохотала, как трактор.
Уже сквозь сон я слышал шаги во дворе. Они приближались и становились все
медленнее. На секунду они замирали. Потом легкие, девчоночьи, стремительные,
как стая воробьев, взлетали по ступенькам подъезда. Под моими окнами хлопала
дверь.
Ночью во дворе сторож разговаривал с собакой.
В этот раз Женька пришел неожиданно. Он пришел не в пятницу и не унылый. Он
был так взволнован, что даже забыл расписаться в приходе на моем гипсе.
– Живем, – заорал он с порога. – Счастье колеблется, но оно в наших руках.
Женька рассказал, что привез из прошлой командировки очерк. Но редактор его
почему-то забраковал и даже не велел переписать – безнадежно.
– И тогда, – Женька выдержал паузу и полез в карман, – я послал очерк в
районную газету.
И вот...
Он протянул квитанцию перевода. Женька не мог сидеть спокойно. Он прыгал от
кровати к стеллажу и опять к кровати.
– Это надо отметить, – захлебывался он. – Где твои шмотки? Я не хочу
напиваться в четырех стенах. Самое главное, это натянуть штаны. До ресторана
четыреста метров.
– Не колбасись, – сказал я, – столько мне не пройти. Я буду мокрый на пятой
ступеньке. А их в лестнице шестьдесят восемь. Мы придем в ресторан часа
через четыре. К тому времени он закроется.
Женька понял, что ничего не выйдет. Но в тот вечер он не мог не
захлебываться.
– А ты Крез, старик, – опять распалился он. – В твоем подъезде живет такая
девочка, что офонареть можно. Я шел сейчас за ней по лестнице и забыл, куда
я иду.
И надо же так случиться, чтобы в эту минуту раздался свист.
– Опять пришел, – сказало окно.
– Ходит и ходит, – вступило второе.
Женька выглянул в окно, а внизу хлопнула дверь, и свист оборвался.
– Ага, – сказал Женька. – И часто он приходит?
– Хоть бы день переждал, ведь экзамены скоро! – пилило второе окно.
Женька ходил по комнате, и его шаги мешали мне слушать, как они уходят.
– Не прыгай, старик. Тут ничего не выгорит.
Ночью по подоконнику стучал дождь. Он стучал легко и весело, как каблуки той
девчонки, когда я встречал ее раньше на лестнице.
На следующий день с утра было ненастно. И только вечером, когда матери уже
разогнали ребят по домам, перестало моросить. И тогда внизу опять раздался
свист. Наверное, парень был рад, что погода исправилась и не придется
мокнуть, потому что свистел он не совсем обычно. Это была уже не та нежная,
грустная мелодия, а победный марш – лихой и неуемный.
Парень высвистел первый куплет. Но дверь почему-то не хлопнула. Молчали и
окна, как будто у каждой хозяйки в эту минуту кипело на кухне молоко. Это
было странно.
Кончился второй куплет. И снова молчала дверь, молчали окна. Парень взялся
за третий, довел его до середины и оборвал. Проскрипели одинокие мужские
шаги.
Я ничего не мог понять. Происходило что-то необычное, а двор молчал. Пока я
тянулся за костылем, пока вставал и шагал к окну, опять случилось что-то.
Потому что внизу, у самого подъезда, я увидел парня в сером буклистом
пиджачке, наверное, еще не просохшем после вчерашнего дождя. Парень, как ни
в чем не бывало, начал свою песенку.
Хлопнула дверь – и рядом с парнем стала девчонка. Сверху я видел только
волну светлых пушистых волос и узкие плечи. Они пошли, а окна все еще
молчали, глядя друг на друга безо всякого выражения, как настоящие
заговорщики.
Они подходили к воротам, когда сверху, с четвертого этажа загремел зычный
бас:
– Эй, парень! Ты приходи, слышишь, и не опаздывай больше. А то опередят.
– Один тут сегодня уже клинья подбивал, – доложило окно с балконом.
Парень услышал. Он обернулся и растерянно кивнул.
За ужином, глядя, как всегда, в сторону, соседка Полина Романовна сказала:
– Если твой шалопай
попробует прийти еще раз, открывай ему сам. Тоже свистун объявился.
И ушла, поджав по
привычке губу.
В ту ночь я так и не
услышал шагов во дворе. Может быть, потому, что каждая ночь становилась
светлей и светлей, и хотелось без конца бродить по тихим, налитым белесой
мглой улицам.
Наступали магаданские
белые ночи.
« назад, в читальный зал